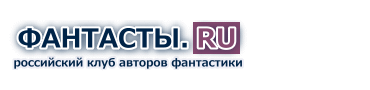Маяк, weird fiction |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 28.3.2017, 17:15 28.3.2017, 17:15
Сообщение
#1
|
|
|
Неизвестный пришелец  Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.3.2017 Вставить ник Цитата |
15 февраля 1920 г.
Дорогая Оливет! Прости, что не выдержал, и написал тебе это письмо. Просто прошло уже пять лет с тех пор, как ты оставила меня одного на этой проклятой всеми богами земле, уехав… Вроде бы в Бостон, да же? С этим чернявым художником Уиксли, которому стоило едва сверкнуть своей белоснежной улыбкой на вечеринке декадентов, куда были приглашены многие из нашего круга – и мы в том числе; стоило показать свой новенький чёрный «Пежо» - и вот ты уже позируешь ему обнажённой натурой, пока он малюет тебя на своих банально-откровенных полотнах, а после исчезаешь бесследно, не оставив даже записки – исчезаешь в Бостоне, да! Вместе с этим ублюдком Уиксли! Новая Англия куда лучше Старой, и уж тем более лучше этой опостылевшей земли, на которой я вынужден находится. Глазго, старый добрый чёртов Глазго! Я разволновался, но не бери это в голову. Просто я скучаю, чертовски скучаю по тебе. Знаешь, недавно я словно проснулся. С удивлением для себя я открыл, что снимаю комнату под чердаком в одном из тех старых домов на Хилл-стрит, что очаровывают своим запущенным и ветхим видом снаружи, равно как и пыльными углами и испещрёнными трещинами стенами внутри. Убранство моей комнаты небогато: жутко скрипящая кровать, стол, стул, платяной шкаф, и небольшая полочка, на которой я храню кое-какие книги. Стены обклеены пожелтевшими от времени и постоянно сочащейся во время нередких здесь дождей обоями неопределённо-зелёного цвета. Порой из-под отсохших краёв обоев моим глазам являются тараканы и прочие мерзкие членистоногие твари, бесстыдно ползающие затем по истёртым половицам, скрипящим ещё сильнее, чем моё ложе. Есть также окно – оно выходит строго на север, открывая из себя вид на стены соседних домов – и на тонкий край серого неба. Потому солнце видно мне из него лишь изредка, и то небольшими урывками. Впрочем, наблюдать светило из окна мне нет смысла – день я провожу на работе. Работать приходится уборщиком в закусочной неподалёку. Ты возможно удивишься, как такой успешный писатель, как я, скатился до отмывания плевков с пола, попираемого сотнями ног за день – но я и сам удивляюсь себе. Своему положению в целом – что я делал все те пять лет, прошедшие с твоего ухода от меня, и почему совсем недавно на меня словно снизошло прозрение, подобное пробуждению после глубокого сна без снов? У меня есть догадки на этот счёт. Скорее всего, твоё внезапное бегство на какое-то время погрузило меня в глубочайшую депрессию, прострацию, приведшую к тому, что все эти пять лет я жил, сам того не осознавая, бродя как в тумане. Некоторые люди и соседи, с которыми мне приходится волей-неволей пересекаться, сочувственно глядят мне вслед, порой что-то бормоча себе под нос. Иногда я вижу, как они перешёптываются между собой, и я явственно ощущаю – их шепотки – обо мне. Что ж, видимо, весть о твоём бегстве стала народным достоянием. Но нет, я не виню тебя. Если такова была твоя воля, то имел ли я право помешать тебе? Мы ведь даже не были женаты – так и жили крепким, но, к сожалению, не подтверждённым союзом – писатель и его женщина, игравшая на арфе подобно тем, кто выходят в особые дни из-под холмов, чтобы праздновать под мистическим светом ночного неба свои таинственные праздники. Да и полно – стоит ли сажать прекрасную птицу в клетку и надевать колечки оков на её нежные лапки, надеясь при этом, что её песни будут так же сладки, как и прежде, пока она сидела в терновом кусте? Если этот Уиксли таки женит тебя на себе, передай ему, что он идиот. И ублюдок. Да, кстати. Вы уже завели детей? Наверняка ведь этот чернявый маляр куда более плодороден, чем я – и мне кажется, моё бесплодие сыграло в твоём побеге немаловажную роль. Что ж, если ты таки стала матерью, вышли фото своих детей ответным письмом. Ах, да. Фото. Я не рассказал. В начале письма я упоминал о том, что словно бы проснулся от глубокого сна. Я совершенно ничего не помню с того момента, как не застал тебя в нашем уютном, но, к несчастью, ныне разрушенном гнёздышке – однако, моё первое действие, которое я осознал после этого неведомого забытья, заключалось в том, что я держу в руках твою фотокарточку. С её помощью ко мне вернулись воспоминания о тех днях, когда ты ещё была рядом со мной – а также и о том, как ты покинула меня. На обороте карточки стояла дата: 30. 11. 1915. Я понял, что в тот день, когда ты меня покинула, я сам поставил эту надпись, предвидя, возможно, провал в памяти. Теперь я вспомнил всё – кроме этих пяти лет. Что произошло за их неторопливый бег? И главное – стоит ли мне это знать? Ладно, что-то я расписался, не буду тебя больше утомлять. Надеюсь, у вас в Бостоне сейчас не так промозгло, как у нас. Скучаю. И плевать на чернявого Уиксли. Счастливо. Надеюсь на ответ. Эверетт. P.S.: можешь позвонить мне, у домовладелицы есть телефон. Вот номер: x….x. Буду рад услышать твой голос. 3 марта 1920 г. Оливет! Наверняка, даже если ты и получила предыдущее письмо и соизволила ответить на него, ответ придёт ещё нескоро. Тем не менее, пишу тебе снова, дабы поделиться произошедшими недавно событиями. На днях в мою дверь постучала домовладелица и позвала меня к телефону. Вначале я обрадовался, подумав, что это ты. Но голос в трубке оказался мужским. Некто представился мне доктором Бладом и с сердечной любезностью поинтересовался о моём самочувствии. Будучи весьма удивлённым такой заботой от совершенно незнакомого мне человека, я на автомате ответил, что чувствую себя более чем чудесно. Доктор Блад искренне порадовался этому, после чего попросил меня обязательно навестить его, назвав адрес: Стивенсон-стрит, 23. После чего он крайне любезно попрощался со мной, намекнув, что чем скорее я навещу его, тем будет прекраснее. Ты не знаешь случайно, кто такой этот доктор Блад? Конечно, скорее всего, когда это письмо дойдёт до тебя, я уже схожу к нему, но тем не менее. Похоже, он один из тех, кто ведёт частные приёмы на дому, беря при этом неплохие суммы. Но вот каковы его интересы ко мне? Является ли он моим лечащим врачом, или же просто давним знакомым, зовущим меня к себе на бокал старого доброго виски? Нет, определённо надо сходить к нему, возможно, визит как-то прольёт свет на то, что происходило со мной за те пять лет, как ты ушла, и о которых я совершенно ничего не помню. Однако, появление неведомого доктора не единственное, о чём я собирался поведать тебе, начиная это письмо. Это вещь банальная, хотя, несомненно, довольно занятная. Но то, о чём я хочу рассказать дальше, гораздо, гораздо любопытнее. Я увидел маяк. Ты же помнишь, как в предыдущем письме я описал свою комнату? Единственное окно, выходящее на север, из которого вечерами и ночами мне приходится любоваться лишь усыпанным звёздами небосводом, прекрасным стократ на фоне постылых стен соседних домов. Вчера ночью к нам пришёл противно моросящий дождь, небо было затянуто тучами, и потому вид из окна был крайне противен. Сидя за столом, я читал газету недельной давности, чтобы развлечь себя хоть как-то, ибо спать совершенно не хотелось. Вскоре чтение при тусклом свете одинокой лампочки под потолком утомило меня, и я отложил газету, прилёг на кровать и стал любоваться твоей фотографией. Прости, но этого не отнять ни тебе, ни этому Уиксли, ни всем богам и чертям вместе! – созерцание тебя, пускай и в отнюдь не живом виде, совершенно точно необходимо мне и благоприятно сказывается на моём самочувствии. Полюбовавшись какое-то время твоими запечатлёнными фотобумагой чертами, я отложил фото, выключил свет, разделся и приготовился ко сну. Уже оказавшись под одеялом, я кинул взгляд за окно, машинально, совершенно ничего не ожидая там увидеть. Однако увидел. Маяк. В том, что он был там, за окном, совершенно не было сомнений. То, что никогда раньше, смотря из окна, я не видел его, а сейчас он внезапно появился там, заставило меня вскочить с постели и подбежать к окну, чтобы разглядеть его лучше. Далеко за крышами и стенами, за холмами и лесами, сквозь толщу серых облаков и промозглую морось пробивался его мертвенный, бледно-голубой свет. Далеко на севере он пульсировал, указывая дорогу неведомым кораблям – вот только к спасительной бухте, или же на смертоносные рифы? Заворожено смотрел я на его холодные пульсации, словно находясь под гипнозом; смотрел – и понимал, что мерцание манит за собой, повелевает моим ногам самим нести меня туда, где на высокой башне мерцает огонёк маяка. А когда ноги мои более не смогут идти, то тело моё безвольно упадёт и поползёт, извиваясь, подобно жалкому червю, покуда не достигнет цели. Откуда взялся этот маяк? Почему я не видел его раньше? И самое главное – где он находится, и какова высота башни, несущей на себе этого холодного светляка – если я смог увидеть его, сидя в Глазго, хотя до ближайшего побережья – многие и многие мили? Поток вопросов несколько ослабил воздействие на меня этого пульсирующего света, я отвёл на время взгляд от мигающей точки – и не нашёл её больше, когда вернулся зрением в ту же самую область неба. Озадаченный внезапным исчезновением маяка ничуть не меньше, чем его появлением, я лёг в постель, провалившись в сон без снов. Возможно, с моим психическим здоровьем, отлично от физического, не совсем всё в порядке. Не поэтому ли мне предлагает встретиться доктор Блад? Извини, но я опять погрешу на твоё бегство и последствия его, отразившиеся на мне. Хотя… Наверное, я всегда был немного безумен – иначе бы не мог воссоздавать в своих книгах сюжеты, перед которыми меркли лучшие произведения Мейчена, Дансени и даже По. Помнится, тебе всегда нравилось моё лёгкое безумие и то, какой выход оно находило в моих работах. Но не от этого ли безумия ты и сбежала? Ведь сколь бы ни были интересны безумцы, нормальные адекватные люди будут интереснее всегда. Особенно такие, как чёртова скотина Уиксли! Прости. Прости. Прости… Безумно скучаю по тебе. Жду с нетерпением ответного письма. Ну, или звонка. Напоминаю номер: x….x. Эверетт Б. 10 марта 1920 г. Здравствуй, Оли! Знаю, прошло совсем немного времени после моего последнего письма, и, наверное, мне не стоит писать тебе столь много и часто. Ответ от тебя (если он, конечно, существует, на что я уповаю) всё ещё не достиг моего почтового ящика. Это меня угнетает, но я знаю, сколько нужно усилий и времени, чтобы почта пересекла океан. Ведь ты же там, за океаном, в Бостоне, да? Так вот, я бы не стал писать тебе это письмо, если бы не происходящие вокруг меня события, понуждающие меня к этому. Прежде всего, хочу сказать, что тоска по тебе усиливается с каждым днём всё сильнее. Странно, почему сейчас, спустя пять лет, которые я провёл в необъяснимом забытьи, а не сразу после твоего ухода. Хотя, возможно, именно сильная тоска в то время и послужила причиной того, что пять лет выпали из моей жизни. Но, тем не менее – будь я человеком суеверным, я бы подумал, что ты, сидя за океаном на коленях у этого чернявого сосунка Уиксли, совершаешь приворотные обряды, преследуя при этом весьма непонятные цели. К чёрту! Хотя я и писал в своё время истории о сверхъестественном, я постоянно готов повторять: никаких высших сил и энергий нет и быть не может! Самовнушение, наркотические галлюцинации, совпадения, последствия различных болезней разума – вот то, за что обычно выдаётся этот постный оккультизм. А эти размножившиеся по всему миру ордены! Их создатели преследуют одну цель – собрать деньги и предаться разврату с женской (а некоторые - и с мужской) половиной адептов на своих церемониях. Разве что такие же шизофреники, да недалёкая деревенщина способны поверить им и им подобным. Ах да, маяк. Теперь я вижу его каждую ночь. Дождей последнее время нет, поэтому ночами небо до дьявола чисто и усыпано десятками звёзд. Если вначале я думал, что то, что я принял за маяк, на самом деле чудом пробившаяся сквозь тучи звезда, то теперь, когда и среди стаи звёзд этот призрачный огонёк продолжает пульсировать ярче их во много раз, я понимаю – это действительно маяк. Осталось понять, реален ли он, или его свет озаряет лишь мой воспалённый рассудок. Часть ночи я прикован к окну, наблюдая завораживающие пульсации, а после ложусь спать – и в каждом сне, в каждом чёртовом сне я вижу тебя! Мне кажется, что маяк и ты как-то связаны. И либо действительно так и есть, либо же я окончательно сдвинулся с ума. Там, далеко на севере… Так иллюзорен – и так реален в то же время. Я решил один день не выходить на работу, сославшись на плохое самочувствие. Вместо этого я отправился строго на север. Я миновал черту города, дошёл до необжитых мест, забирался на холмы, в надежде прозреть вдали ту колоссальную башню, благодаря которой я каждую ночь вижу в своём окне бледно-голубую крупицу пламени. Но всё тщетно – там, вдали, лишь ещё холмы, пустыри, леса и поля, другие города и посёлки – но никаких башен, никаких маяков. Разве что побережье… Но это полнейший абсурд, это невозможно – сколь высока должна быть башня, и сколь ярок огонь на её вершине, чтобы достичь моего окна в проклятом Глазго! Я повернул обратно, и достиг дома уже ночью. Поднявшись в свою комнату, я первым делом глянул в окно – и крайне взбудоражился, увидев маяк на своём прежнем месте. Казалось, в этот раз его пульсации источают насмешку; насмешку незримого демиурга над человеком, пытающимся рассуждать о его, демиурга, природе, используя при этом понятия сугубо земные и человеческие. Так я и рухнул, не раздеваясь, в свою постель. Если бы я не отрицал существование тонких материй, можно было бы всё списать на них. Но поскольку в этом понимании я реалист, то смысл один – моё безумие явно перешло ту грань, за которой находилось до твоего ухода. А это плохо, очень плохо. 30. 11. 1915… Каждую грёбаную ночь я вижу тебя. Думаю, на днях я посещу доктора Блада. Эверетт. 15 марта 1920 г. Дорогая Оливет! Кажется, в предыдущем письме я был немного груб. Кажется, письма, что я пишу и посылаю тебе, становятся слишком частыми. Это неправильно, знаю. Ведь мы оба прекрасно знаем, что ничто уже не вернётся назад. Больше нет никаких нас. И порой я смею думать: а были ли мы вообще? Могли бы мы остаться друзьями, изредка встречаться в любимой нами раньше «Брейк анд Брэд» за чашечкой терпкого кофе с виски? Нет. Да, в моих ранах всё ещё копошатся черви, проникшие в мою слабую плоть после твоего ухода, но сверху образовались коросты, сквозь которые лишь изредка сочится гнойная сукровица. Видь же я тебя каждый день (а иначе и быть не могло бы, ибо знай я, что могу тебя видеть каждый день, я бы стремился к этому через все препоны), раны мои исторгали бы постоянные ручейки крови, и всё новые черви бурили бы ходы в моей плоти, в моей душе, буде таковая есть – пока не проели бы всё моё существо, и я бы не рухнул на землю комком истлевших лохмотьев, лишь отдалённо напоминающих человека. Нет, определённо, мы не могли бы стать друзьями. Но и не писать тебе эти письма я не могу. Что-то толкает меня на это. Возможно, сны, которые я вижу каждую ночь. В них восстают картины прошлого и всевозможные фантазии, общим знаменателем которых служишь Ты. Например, этой ночью мне приснилось, что мы стоим, обнявшись, как первейшие любовники на Земле, в ладье, плывущей в пространстве, полном звёзд и неведомых протуберанцев, пляшущих вокруг наподобие волн при жестоком шторме северных морей. Но ладья плывёт размеренно; звёздные ветра надувают её парус, и она стремится вперёд, в неизвестные дали… И плевать, что ждёт впереди, ведь ты рядом, в моих объятиях. Странные крылатые создания парят над и под нами, взмахи их крыльев смешны в том месте, где априори нет воздуха. Кажется, они что-то говорят. Шепчут слова на неведомом языке; это напоминает молитву какому-то неведомому божеству. Впереди разверзается бездна, ладья проносится над ней невредимой, но чудовищной силой твоё хрупкое тело вырывает из моих объятий, и ты исчезаешь в глубинах, что чернее самой чёрной ночи. Я кричу, и слышу, как крылатые твари хохочут, отставая от ладьи, и кружа над провалом, столь внезапно и фатально возникшим в пространстве… И так почти каждую ночь. Как бы ни был хорош сон, какие бы приятные события в нём не разворачивались – в конце ты обязательно исчезаешь. Падаешь в бездну, уходишь под землю, возносишься в вязкую кашу облаков, просто растворяешься в воздухе – и так многие десятки раз. Всё это начинает тревожить меня всё сильнее и сильнее. Чёрная бездна – чернявый Уиксли. Ууу! Нет, неправильно. Это твой выбор, ты сделала его вполне осознанно – и я сам осознаю, что по многим пунктам уступаю твоему молодому художнику. Но сны… И маяк, на свет которого я уже привык смотреть каждую ночь. Какая-то связь, есть какая-то связь… Но я написал тебе не чтобы рассказать о снах и унизительно пожаловаться на своё состояние. Хочу рассказать о своём визите к доктору Бладу. 13 числа я опять наплевал на свою работу, и к полудню оказался у дома 23 на Стивенсон-стрит. Трёхэтажный особняк, исполненный в типичном для середины прошлого века стиле, наталкивал на мысль, что его хозяин – далеко не дурак, к тому же, использующий свои способности для устройства своего быта. Недалеко от дверей был припаркован блестящий новенький «Форд». Окна третьего этажа были зарешечены, и было видно, что изнутри они закрыты плотными белыми шторами. На первом этаже окна отсутствовали вовсе, исключая подвальные, расположенные у самой земли. Окна второго этажа были самыми обыкновенными. Массивная дубовая дверь была украшена табличкой «Д-р Генри Дж. Блад». Я позвонил. Спустя некоторое время послышался звук шагов, и дверь распахнулась. На пороге стоял мужчина, которому можно было дать около шестидесяти лет. Он был высокий, худощавый, с ярко выраженным кадыком и густыми седыми усами. Очки в золотой оправе скрывали серые глаза, смотревшие с таким милосердием, будто принадлежали одному из тех миссионеров, что искренни в своей вере и полны истинной благодати. Череп был лыс, местами на нём проступали старческие сине-зелёные пятна. Одет мужчина был в дорогой костюм кремового цвета. «Доктор Блад?» - спросил я. «А вы разве не помните? Да, это я. Доктор Генри Джордж Блад. Я вас помню очень хорошо, Эверетт Бутман, - ответил мужчина. – Проходите, пожалуйста, я ждал вас». Я прошёл в прихожую, и после, следуя за доктором Бладом, поднялся по лестнице на второй этаж, где мы расположились в его просторном рабочем кабинете. Доктор разлил нам виски; после того, как оно было пригублено, закурил дорогую сигару, предложил мне, и, когда я сделал пару затяжек, наконец разорвал ставшее напряжённым молчание и заговорил. «Я хорошо помню ваши произведения. Хотя я человек науки и далёк от всех этих мистических идей, ваши книги смогли зародить интерес и во мне. Более того, порой я испытывал воистину сверхъестественный ужас, читая о вещах действительно Неименуемых. «Глубинный голос», «Черви извне», «Нисхождение в синюю мглу» - одни названия способны бросить в дрожь, а если вчитаться… Жаль, что вы прекратили писать. Знаю, после того, что вы пережили, это сложно. И всё таки…» «Спасибо, - поблагодарил я. – Возможно, вы и правы, и мне действительно стоило бы подумать о продолжении писательской карьеры. Но все эти ужасы… После того, что стало со мной, когда моя Оливет уехала в Бостон с этим скверным чернявым Уиксли…» В этот момент доктор Блад как-то странно воззрился на меня. «Неужели вы совершенно ничего не помните?» - спросил он. «А что я должен помнить? – меня начало охватывать нарастающее нервное напряжение. – Она внезапно покинула меня, не оставив даже записки, уехала с любовником за океан, бросив меня одного в пустом доме. Мне кажется, это было 30 ноября, пять лет назад. Эту дату я обнаружил на её фотографии, когда не так давно словно бы очнулся. У меня провал в памяти – все эти пять лет словно скрыты за чёрным экраном. Потому я и пришёл к вам – видимо, вы мой друг, раз интересовались по телефону, как моё здоровье, и пригласили к себе в гости. Я благодарен вам за заботу, но буду ещё благодарнее, если вы прольёте свет на то, что происходило со мной в течение этих пяти лет». «Хм, странно, странно… - пробубнил доктор себе под нос, после чего обратился ко мне. – Неужели вы действительно совершенно ничего не помните? 30 ноября – это число не натолкнуло вас ни на какие мысли? Солёные брызги, столь скверно мешавшиеся с до дьявола ледяным мокрым снегом? Порывы северного ветра, несущие холод очередной зимы? Мыс Гнева?..» «О чём вы, Блад? Брызги, снег, ветер? Я вернулся из издательства в наш скромный дом и обнаружил, что Оливет исчезла вместе со всеми вещами, исчезла вместе с ублюдком Уиксли. Я прекрасно помню, что произошло 30 ноября 1915 года, и это никак не укладывается в ваши слова. Какой, к чёрту, мыс Гнева? Я просил вас рассказать о том, что я делал все пять лет с ухода Оливет, и уж точно не просил вливать мне в уши словоблудные помои! Смею полагать, вы отнюдь не мой друг, а лжец и интриган!» Я разгорячился настолько, что опрокинул пустой бокал на пол, о который он с успехом и разбился. Недокуренная сигара полетела следом. Однако доктор Блад нисколько не расстроился небольшому погрому, а аккуратно убрал мусор, плеснул мне ещё виски, правда, уже в свой стакан, и успокаивающе похлопал меня по плечу. «Выпейте, а после пройдёмте за мной. Я хочу вам кое-что показать. Быть может, тогда вы сможете вспомнить всё сами». Немного успокоившись (чему, несомненно, поспособствовал виски), я проследовал за Бладом из его кабинета на третий этаж. Там я увидел коридор, по обе стены которого шли ряды однотипных, довольно крепких дверей с подозрительного вида замками. Из-за некоторых из них доносились какие-то шепотки, бормотания, поскребыши, иные звуки, которые у меня нет никакого желания классифицировать. Мы прошли мимо всех этих дверей до конца коридора, после чего вошли в дверь, которая, в отличие от других, не была заперта на подозрительные замки. Комната была сравнительно небольшой – не больше той, в которой я живу сейчас. Стены были обиты толстым слоем войлока. У занавешенного окна, за которым угадывалась решетка, стояла кушетка, похожая на больничную… Я рванул прочь из этой комнаты, из этого дома, рванул бы из этого города, если бы было куда. Доктор Блад не преследовал меня, но, уже достигнув выходной двери, я услышал его крик: «Вы ещё вернётесь, Эверетт, уж поверьте мне!» Кажется, я понял. Эти пять лет, что я находился в забытьи, я провёл там – в той самой комнате. Похоже, доктор Блад – практикующий психиатр, организовавший частную лечебницу у себя на дому. Безусловно, он мой друг – ровно настолько, насколько лечащий врач может быть другом пациенту. Пять лет, пять грёбаных лет я лежал в этих мягких стенах – и всё это из-за тебя! Видимо, так мне и надо. Эти сны, маяк… Видимо, я не излечился до конца, но от того, что я потерял то, что потерял, вряд ли возможно исцелиться. Однако я не вернусь в те стены, о нет! Буду притворяться, что вполне здоров и нормален, постараюсь избегать встреч с Бладом, возможно, уеду в другой город, или вовсе в сельскую местность. Лишь подальше от этого проклятого города с его проклятыми призраками прошлого. Этой ночью я вновь лицезрел маяк и истерически хохотал, перепугав прочих сожителей и саму домовладелицу. Как я скучаю, как я чертовски скучаю. Твои руки наверняка бы сняли тенёта безумия с моего разума… Но нет, только хуже. Почему я так и не получил твоего ответа??? Э. Б. 20 апреля 1920 г. Дорогая МОЯ Оливет! Да. Именно МОЯ. К чёрту Уиксли, плевать, что вы, наверняка, женаты, и, наверняка, с детьми! Наверное, я окончательно сошёл с ума – всюду, в каждой девушке, девочке, женщине – я вижу тебя и только тебя. Десятки Оливет проходят мимо меня каждый день, улыбаются мне, что-то шепча себе под нос. Я готов подбежать к каждой, обнять, поцеловать – но тогда миражи рухнут, я получу оплеуху, загремлю в каталажку, а затем, скорее всего, к сердобольному старому пердуну Бладу. А я не хочу этого, как не хочу и разрушать миражи, что воспалённое сознание выстраивает вокруг меня. К чёрту Блада и к чёрту всех! Ты и только ты – здесь, сейчас, всюду, сотни, тысячи тебя, всегда, отныне и навеки! Позавчера я порядком подустал, признаюсь, от этих снов и этих миражей. Я допустил мысль – крамольную из крамольных! – что стоит отвлечься от постоянных мыслей о тебе, от созерцания фотографии, от пресловутого маяка. Я пошарил по подворотням и отыскал жрицу любви – молодую, какой была и ты на тот момент, пока ещё была моей. Пара шуршащих купюр, и она ведёт меня трущобами в свою комнату, повидавшую уже не одну сотню мужчин за недолгие трудовые годы этого юного создания. Я, глупец, думал, что предавшись страсти с дешёвой шлюхой, смогу позабыть о тебе, что отступят сны и видения, едва я переключусь с внутренних иллюзорных переживаний на вполне реальные телесные. Глупо! Как ни старалась юная прелестница, но моё тело не смогло выжать из себя и капли страсти, и после часовых попыток хоть что-то сделать со мной, я был изгнан – с позором и без возврата денег. Однако я не жалел ни капли – ни о деньгах, ни о любовной неудаче. Ни тело моё, ни разум мой ни жаждут никого, кроме тебя. А Уиксли, видимо, сам дьявол. Чернявый, белозубый, кареглазый – сущий демон, инкуб, пленивший тебя своей проклятой силой и увёзший за океан, подальше от меня. Верь я в высшие силы, я бы сказал, что это кара мне за неведомые прегрешения, что я свершил в этой жизни – или в прошлых. Ха, многие бы посоветовали мне не прессовать свои мозги, и, если проститутки не подходят для меня, попробовать влюбится. Глупо, глупо, как сырные дожди по пятницам! Ты слишком глубоко въелась в моё естество, словно гриб, покрывающий мицелием огромные территории. Ты в каждом моём члене, в каждом органе, в каждой клеточке моего истерзанного организма. Нейроны моего воспалённого мозга каждую миллисекунду передают твоё имя по своим волокнам. Ты растворена в моей крови, и если бы я истекал кровью, лишь вливание тебя в мои напряжённые вены смогло бы спасти меня от смерти. Морфий, опиум – ничто так не дурманит, как воспоминания о твоих глазах, в которых я так любил купаться. И свежесть чистейших лугов Тибета покажется мне смердящей вонью выгребной ямы, полной гниющих трупов, по сравнению с незабвенным запахом твоих карминных волос… Оли, Оли, милая моя Оли… Как бы я хотел услышать твой голос в трубке телефона, пробежать глазами по строчкам, что оставила твоя тонкая рука. Как бы я хотел, чтобы ты никуда не уезжала. Навеки, навеки… Доктор Блад беспокоит меня довольно часто. Звонит, норовит побеседовать, когда я на работе. Пару раз даже приходил ко мне домой. Но ему не взять меня, я не дамся так просто. Если я провёл пять лет в его гостеприимных стенах только потому, что ты оставила меня, и я впал в депрессивное забытьё, то теперь, узнай он о моих снах, видениях, и, самое главное, о неведомом маяке, у меня есть все шансы провести остаток дней на продавленной кушетке, глотая микстуры и заботу, совершенно мне не нужные. Маяк… Он – символ моих чувств, неиссякаемой исступлённой любви. Я понял это недавно. Чем чаще я думаю о тебе, чем больше видений и снов – тем он ярче, тем сильнее его пульсация. Последнее время он мерцает подобно Сириусу, и я понимаю, что это что-нибудь да значит. Далеко с севера доносится до меня его удивительный манящий свет… Далеко на севере… «Порывы северного ветра, несущие холод очередной зимы» - так, кажется, говорил Блад? Эскулап упоминал мыс Гнева, и почему-то считал, что я должен его помнить. Брызги, ветер… Я проверял по карте – это север Шотландии, там в берега бьётся Атлантический океан, бессмысленный и беспощадный в своём стихийном неистовстве. Север… Далеко на севере… Кажется, я знаю, что нужно сделать. Милая, прости за тот бред, что я пишу тебе в каждом письме. И ответь. Пожалуйста. Хотя бы одной строчкой. Навеки твой, Эверетт. 30 мая 1920 г. Оли, солнце моё! На этот раз буду краток, ибо условия не позволяют настрочить очередную безумную тираду. Я в пути. Прямо на север, на свет моего маяка. Ночью 21 апреля я собрал свой нехитрый скарб, воровато вышел из дома, после чего прокрался на Стивенсон-стрит. «Форд» Блада всё так же стоял у входа в его психиатрические казематы. Доктор был прав – я действительно вернулся. Нехитрые манипуляции с электроникой – и я мчусь прочь из опостылевшего Глазго, мчусь на север – и вижу там, вдали, свет маяка. Он всё сильнее, всё ярче с каждым днём – а значит, я всё делаю правильно. Плевать, что угон автомобиля совершенно против закона. Плевать, что, возможно, меня будут преследовать – я уже сделал свой выбор. Ещё тогда, когда не обнаружил тебя в нашем доме. Сейчас я остановился в каком-то посёлке, чтобы перекусить и подзаправиться, поэтому и пишу письмо – возможно, здесь есть, где его отправить. Не пиши мне ответа сейчас – хотя, сомневаюсь, что подобные идеи вообще могут прийти в твою голову. Когда я достигну своей конечной точки маршрута, я обязательно напишу тебе, указав нужный обратный адрес. Угнанный мною «Форд» - мой корабль. Мой маяк – мой Polaris. Я – мореплаватель земной тверди, скользящий на ветрах любви, смешанной с безумием. Целую в твои тонкие бледные губки, Твой Э. 13 сентября 1920 г. Дорогая, милая, родная моя Оливет! Минуло лето, и вот я достиг конечной точки своего пути. «Форд» доктора сгинул в безвестном болоте ещё в начале июня, поэтому мой дальнейший путь был долог и тернист. Я шёл пешком, порою некоторые промежутки пути проезжал на попутных экипажах; нередко приходилось плыть – на лодке и даже самому. Я спал в чужих сараях, сеновалах, порою под открытым небом или в корнях поваленных елей. Я питался тем, что удавалось украсть у фермеров, либо же подножным кормом, который удавалось добывать в лесу. Гнус терзал моё тело, дождь заливал мне глаза. Не исключено даже, что я подхватил какую-нибудь болезнь. Но путь мой был проложен маяком, а сердце грел твой образ. Потому я здесь, потому я жив. Оказывается, пешком путешествовать лучше, чем в машине. Да, не так быстро – но нет совершенно никаких опасений, что собьёшься с установленного курса. Это был мой хадж, мой поиск Святого Грааля – и он завершился. Я стою на крутом берегу. Океанические брызги, солёные и холодные, долетают до моего лица. Мыс Гнева. Доктор говорил, я должен его помнить. И, действительно, возникает такое чувство, что я тут уже был. Но при чём тут 1915 год? Никак не могу взять в толк. Вокруг на многие мили ни души. Пустоши, холмы, ни единого деревца, ни единой фермы, ни единого домика. Только тот, что за моей спиной. Двухэтажный, с мансардой, старый, немного просевший. Дверь была опечатана, окна заколочены – видно, что он заброшен уже несколько лет, и, судя по окружающей меня земле, с момента закрытия дома здесь никто не бывал. Да и кому могло бы понадобиться жить тут, на открытой всем ветрам площадке, где совершенно нечем заняться, кроме как предаваться какому-нибудь монотонному ремеслу – или угрюмому отшельничеству. Пожалуй, я займусь последним. Здесь меня вряд ли кто-то найдёт. Разве что Блад… но не обязательно, совсем не обязательно. Я расколотил дверь и окна. Внутри царило полнейшее запустение, однако отыскались кое-какие инструменты, утварь, листы бумаги, дрова. Я решил обосноваться в мансарде, поскольку там разруха ощущается меньше всего, а из окна открывается прекрасный вид на холодные океанические волны. И на маяк. Я вижу его, теперь гораздо отчётливее. Но, тем не менее, не могу понять, где находится та башня, что несёт на себе его огонь. Ведь там, дальше на север, только бескрайнее море да парочка островов – но это уже совершенно не укладывается ни в какую объективную картину. Видимо, маяк – действительно порождение моего больного рассудка; тем не менее, он привёл меня именно на мыс Гнева. Странно, очень странно. В мансарде есть очаг, так что мне не будет холодно; из найденного внизу барахла я смастерил себе ложе, а также постарался заткнуть щели в стенах – ведь скоро станет совсем холодно, а мне совершенно не хочется замёрзнуть. С едой и водой будет туго, ведь как я уже упоминал, местность необитаема, и украсть ничего не получится. Однако я видел, что среди камней футах в ста от моего нового обиталища чернеются какие-то норы. Вполне возможно, это жилища кроликов, а значит, несколько силков обеспечат меня постоянным обедом и ужином. Воду можно собирать во время дождя, благо, какие-то посудины валяются по углам первого этажа, - либо можно попробовать разыскать родник. Не хватает только виски или табака – но чего нет, того нет, хотя, возможно, что-нибудь из этого и завалялось в этом доме. Только я и пустынная природа вокруг. И ревущий раненным титаном океан – но разве Океан и не был титаном? И ты – пускай и далеко отсюда, но взлелеянная в моём сердце. Хотя, будь ты рядом со мной в этом доме, это было бы замечательно. Ты и я – и торжественное запустение вокруг. Ты бы играла на арфе - и гномы покидали бы свои подземные убежища, чтобы усладить слух твоей воистину неземной игрой; лёгкие сильфы прекратили бы свои бесконечные игрища, замерев от красоты извлекаемых тобою звуков; ундины поднялись бы со дна морского, позабыв о своих раздувшихся посиневших возлюбленных из числа каперов; и даже саламандры застыли бы в благоговейном изумлении перед твоей игрой. А я – я бы сидел в уголке и, улыбаясь, писал очередные зловещие истории, столь контрастные по сравнению с твоими сказочными музыкальными зарисовками. Да. Пожалуй, стоит вернуться к писательству. Всё равно надо будет как-то убивать свободное время, и, быть может, я смогу сделать это с пользой, написав очередной роман. Или повесть. Или сборник рассказов. Это письмо пока не могу отправить, сама понимаешь, до ближайшего почтового отделения очень далеко. Но, как только будет повод и возможность отправиться до населённого пункта, я всенепременно захвачу с собой письмо. Жаль, что тебя сейчас нет рядом. Тебе бы очень понравилось здесь. Этот дом гораздо лучше той фешенебельной квартиры за океаном, в которой наверняка вы живёте с этим ублюдком Уиксли, да подотрутся его полотнами в клозете! Ну да ладно. Целую. Скучаю. Эв. – Бу. 1 октября 1920 г. Дорогая, любимая Оливет! Около месяца я здесь, на этом пустынном берегу своего одиночества. Никто не беспокоит меня, ни единой весточки из жестокого мира, который я оставил, не доходит до моего отшельнического удела. Какие-то острокрылые белые птицы кричат каждый день, паря над волнами бескрайнего океана; ночью же лишь разгневанный шум этих самых волн тревожит моё уединение. Порой я вижу вдали корабли, похожие на чёрные точки, которые ты поставила на страницах моего существования. Они проходят мимо, и совершенно не подозревают обо мне – не подозревают и о ещё одной точке, холодной и далёкой, что сияет далеко на севере. Благодаря которой я здесь – всё ещё здесь. Я сумел довольно сносно обустроить свой быт. Пресной водой меня обеспечивает родник, бьющий неподалёку. В силки исправно попадают кролики, худые, но многочисленные – их мясо жестко, но это лучше, чем ничего. Можно было бы попробовать ловить рыбу – скорее всего, её здесь много, иначе птицы не устроили бы в скалах свои гнёзда. Но к воде не подступиться – берега мыса Гнева круты, сплошь испещрены трещинами, а внизу волны бьются об острые камни. Будь ты здесь, я бы не подпускал тебя близко к краю обрыва, не хватало бы ещё, чтоб ты свалилась вниз. Но ты не здесь, а далеко за океаном, на спокон веку прогнившем Западе, и надеюсь, у тебя всё в порядке – насколько может быть в обществе твоего избранника. Небольшие проблемы возникают с дровами – я израсходовал те небогатые запасы, что нашёл в доме. Очаг приходится топить той древесиной, что порой можно обнаружить в окружающей дом пустоши, и самим домом, медленно и аккуратно разбираемым мною на доски. Да, роясь однажды в грудах хлама на первом этаже, я обнаружил пару закрытых бутылок виски и упаковку сигар. Это неслыханная удача, и теперь мне есть, чем себя развлечь. Также я обнаружил покрытый толстым слоем пыли телефонный аппарат. Провода, который ведёт от него к цивилизации, я обнаружить поначалу не смог, но после увидел его уходящим в землю, неведомо, в какую сторону. Наверняка, он обеспечивает связь между этим домом на краю обрыва и каким-нибудь посёлком в десятке миль отсюда. Сняв трубку и услышав там тишину, я ничуть не удивился – возможно, где-то под землёй провод давно оборван, и связь с миром потеряна. Впрочем, мне она и не к чему. Прости, что пишу так редко (хотя не думаю, что ты так уж сильно расстроена таким положением дел). Письма отправить неоткуда, да и в самом изложении на бумаге постепенно отпадает смысл. Здесь, в полном одиночестве, мне всё больше начинает казаться, что ты можешь слышать меня и так – если я буду говорить с тобой, как иные говорят с Богом. Ты и есть мой Бог – типичный Бог, оставивший свою паству, пускай она и состоит из одного-единственного человека. Но ночью, когда на севере вспыхивает маяк, слова моих обращений к тебе колеблют эфир, и мне кажется, что ты можешь их услышать. Призрачный огонёк маяка служит резонатором, проводником, антенной – и ты слышишь мой голос – во сне он звучит тихим ласковым шепотком, заставляющим, возможно, хоть ненадолго вспомнить обо мне. Мне кажется, сам я – антенна, и если бы вдруг я умер, то вся вселенная услышала бы то, что я хочу передать тебе. Наш мир и сотни иных – вздрогнули бы от громового раската моей последней любви. Я просто хочу верить в это. Ты же помнишь, я отрицал всё то мистическое, во что истово верят иные. Отрицал, хотя писал об этом, как о вполне реальных вещах. Но здесь, в полном одиночестве, при свете моего шизофренического маяка, согреваемый неярким пламенем очага в мансарде и мыслями о тебе – я просто хочу верить. Что ты есть где-то там, и порой думаешь обо мне. Я решил вновь начать писать, благо, бумаги в этом доживающем свой век доме хватает. Нет, теперь это не полная запредельного ужаса проза – а во многом автобиографичная драматическая повесть. Повесть о нас с тобой, Оли. О тех временах, когда мы были счастливы. Я не знаю, зачем пишу её – ведь теперь вряд ли я ещё когда-нибудь постучу в двери издательства, чтобы отдать кипу исписанных бумаг и получить после причитающийся гонорар. Сомневаюсь, что я вообще когда-нибудь выйду к людям. Этот дом станет вечным моим пристанищем, здесь я найду свой конец, и, возможно, дух мой будет завывать ночами, блуждая по пустоши вокруг – пока эти расплодившиеся повсюду, будто черви в гниющем мясе, оккультисты не приедут сюда, дабы изгнать меня в вечную тьму, чтобы я, наконец, обрёл забвение. Но сможет ли найти забвение моя душа, если так никогда больше и не увидит тебя – в этом или иных мирах? Я становлюсь таким суеверным здесь. Видимо, моя болезнь продолжает прогрессировать, найдя в окружающем меня пространстве благодатную для себя почву. Как одно из свидетельств, подтверждающих мои догадки, могу привести свои сны. Если раньше они были относительно разнообразны по своему наполнению, пускай и заканчивались почти всегда одинаково, то теперь одно и то же видение преследует меня в каждом погружении в воды сна. Первобытная ночь, мы стоим на таком же скалистом берегу, как и этот, только за нашими спинами отсутствует дом. Внизу ревёт океан – полно, океан ли? Чёрная клокочущая бездна, смола в котлах преисподней, холодная, злая… С берега вдаль перекинут мост – хрупкий, стеклянный, либо хрустальный, шириной менее пары футов. Дальний его конец теряется в сизой мгле, но нетрудно угадать, куда он упирается – ведь там, далеко на севере, я вижу циклопическую чёрную башню, на вершине которой горит он – мой маяк. Только теперь его свет в разы ярче, он ослепляет словно тысячи солнц разом, разливая холодные лучи по всей плоскости неба-провала. А за башней угадывается чей-то расплывчатый силуэт, чернее бездны над и под нами, чернее башни маяка. Я пытаюсь удержать тебя, но ты отстраняешься и всходишь на мост. Я хочу крикнуть, хочу догнать тебя – но способен лишь наблюдать, подобно мраморному ангелу на одном из английских кладбищ, не в силах даже утереть струящиеся из глаз слёзы. Ты уходишь всё дальше, дальше, вот уже почти совсем не видно тебя – и мост рушится в бездну, рушится башня маяка, рушится всё мироздание. Напоследок гаснет бледно-голубой пульсар – и тьма самых глубоких колодцев вселенной укутывает всё вокруг. Я лечу, лечу куда-то вниз, и громогласный издевательский хохот Чёрного несётся мне вслед… И так из ночи в ночь, из сна в сон. Я просыпаюсь и рыдаю, мечусь на своём уже изрядно засаленном ложе, зову тебя. Это не просто сны – я ощущаю это каждой клеточкой своего тела. Это свидетельства тяжёлой необратимой душевной болезни. Возможно, доктору Бладу действительно стоило бы упрятать меня в свои мягкие стены. Нет, было бы только хуже. Я чувствую, что ты и только ты способна подарить мне избавление от этих страданий. Но ты далеко, очень далеко, и я не смогу найти к тебе дороги иным способом, кроме своих ежедневных разговоров при свете маяка, обращённых к тебе – или в пустоту. Ладно, пора проверять силки. Встретимся сегодня ночью – в твоих снах. Надеюсь. Э. 21 ноября 1920 г. Оли! Не хватает табака, виски. Не хватает тебя. Внезапно пришли холода – хотя я и понимаю, что ноябрь близится к концу, и им уже давно пора бы прийти, всё равно их приход изрядно угнетает меня. Это у тебя, в квартире Уиксли, тепло, здесь же, в открытом всем ветрам доме, холодно, как в могиле. Он и есть моя прижизненная могила. Мёртвых уже не согреть, но меня бы согрело тепло твоей любви, в котором ты мне отказала. Жар твоих губ сильнее жалкого пламени моего очага. Маяк пульсирует сильнее, чем прежде, разгорается всё ярче. Скоро 30 ноября… И мне кажется, что-то должно произойти. Я забросил свою писанину – что в ней толку, если ты больше НИКОГДА не будешь моей, как бы мне этого не хотелось? Часами я стою на краю обрыва, рискуя быть сброшенным оттуда вниз. Северный ветер кидает мне в лицо солёные брызги, смешанные с пролетающим редким мокрым снегом. Я чувствую дыхание надвигающейся зимы, которая, как мне кажется, будет ВЕЧНОЙ. Быть может, зря я избрал своей стезёй отшельничество. Похоже, оно окончательно подорвало моё психическое здоровье. Меня уже не спасти… Брызги и ветер, ветер и брызги… Каждую ночь хохот Чёрного после моего падения в никуда всё сильнее, всё больше издевки в нём. Я устал, и, боюсь, я этого не вынесу. Чёртов выродок Уиксли! Я бы свернул ему шею, как кролику, которого поймал себе на обед – попади он только в мои огрубевшие от существования здесь руки. У каждого своя правда, что хорошо одному – совсем не хорошо другому. И это известный всем закон существования этого мира. Но если так – если правда за вами с Уиксли – я отказываюсь называть этот мир своим домом! Сегодня вечером я вздрогнул – на первом этаже зазвонил всё это время молчавший телефон. Я посчитал это галлюцинацией, но всё же решил спуститься проверить. Он действительно звонил, однако я не стал брать трубку. Брызги и ветер, ветер и брызги… Мне холодно, одиноко. И – страшно. Э-т. 30 ноября 1920 г. Дорогая, сегодня я убью человека. Все эти дни телефон буквально надрывался, и долгое время я не решался взять трубку. Но сегодня та самая дата, что записана на твоей фотографии. И сегодня, после полудня, когда звонок вновь огласил гулкую тишину старого дома, я взял трубку. Кто знает, возможно, я надеялся на чудо, и ожидал услышать в трубке твой голос, который скажет: «Дорогой Эверетт, я всё поняла. Я возвращаюсь. Прости – и жди. Скоро буду». Но это была не ты. Это был доктор Блад. Видимо, он таки вычислил, где я нахожусь, и бросился в целенаправленную погоню. Он звонил мне из нескольких населённых пунктов, и сейчас – из ближайшего к моему жилищу. К ночи он должен добраться сюда – добраться, чтобы утешить (гори в Аду его милосердие!) и забрать обратно в Глазго, под пожизненный зоркий присмотр. Но доктор сможет заключить в свои человеколюбивые объятия лишь пустоту, когда преодолеет каменистую пустошь, к тому же изрядно размокшую из-за тающих на земле бессчётных хлопьев снега. А я освещу ему путь маяком, который способен зажечь лишь я. Я вспомнил, вспомнил абсолютно всё. Хорошее свойство человеческого разума – забывать наиболее глубокие потрясения, случавшиеся с его обладателем, а порой – и вовсе подменять их на иные, более безобидные. Но я раскурочил скорлупу, под которой дремала истина. Это опасно для сохранности целостности тела и сознания, но я – особый случай. Мне терять больше нечего. Солёные брызги, столь скверно мешавшиеся с до дьявола ледяным мокрым снегом. Порывы северного ветра, несущие холод очередной зимы. Мыс Гнева. Не зря доктор говорил мне про них. Минуло пять лет, и я вспомнил. 30 ноября – тогда и теперь, здесь и только здесь. Нет никакого Бостона, нет никакого Уиксли. Мы жили здесь, молодая пара, писатель ужасов и его возлюбленная, столь чудесно игравшая на арфе. Через пару месяцев мы должны были сыграть свадьбу, а пока в уединении жили в этом старом доме на берегу океана, предаваясь творческим и любовным порывам. Раз в неделю жители соседнего посёлка привозили нам продукты – мы звонили туда по телефону на первом этаже, предупреждая о своих пожеланиях. Но тогда, в 1915 году, зима стала наступать столь же внезапно, как и сейчас. Северный ветер пронизывал до костей, пролетал мокрый снег. Но нам было всё равно, мы всё так же любили прогулки по опасному краю обрыва – ведь какие беды могут случиться, если мы вместе – ты и я? Смеясь, ты кружилась в опасном танце, будто идя по лезвию ножа, и смех твой в такие моменты звучал ещё прекраснее и торжественнее, чем твоя арфа, когда ты касалась её своими тонкими прекрасными пальцами. Вечером последнего дня ноября мы так же прогуливались по краю. Северный ветер дул сильнее обычного. Ты вновь затеяла свои беззаботные игрища… и какого дьявола я не остановил тебя?! Нет, мне больно это писать. Но, поверь, ещё больнее постоянно прокручивать эти картины в голове – и не иметь силы остановить их фатальный калейдоскоп. Наверное, в тот миг я и сошёл с ума. Я кричал в беснующиеся волны безразличного тёмного океана, но лишь его первобытный гул был мне ответом. Не знаю, почему я не кинулся следом за тобой. Острые клыки скал прямо под краем, беспрестанно облизываемые холодными волнами. Солёные брызги, мешавшиеся со снегом – и со слезами. Зловещий вой ветра, в одночасье лишившего меня всего, что составляло мою жизнь. Я сумел добраться до дома и позвонить, выкрикнув пару невнятных фраз, прежде чем отключиться. Твоё тело так и не нашли, моё же отвезли в Глазго, где доктор Блад, по просьбе моих друзей и коллег по писательскому цеху, поместил меня в свою частную лечебницу. Наши вещи вывезли из дома на обрыве и заколотили его; в нём так никто и не поселился, все посчитали, что это место отныне проклято. Пять лет я провёл совершенно без памяти в доме 23 на Стивенсон-стрит, и лишь в начале этого года Блад посчитал моё состояние более-менее нормализовавшимся, и разрешил мне покинуть его гостеприимные стены. Друзья помогли мне найти какую-никакую работу и сняли комнату – после чего отвернулись от меня, ибо не имели желания поддерживать общение с душевнобольным… Я никогда бы не смог простить себе того, что произошло. Того, что не остановил тебя, когда ты кружилась на краю. Того, что не кинулся в пучину следом за тобой. Земля слишком пуста без тебя, и я сожалею, что пять лет топтал её суть, совершенно этого не достойный. Письма, что я писал тебе… вот эта стопка, все до единого – на моих коленях. Я не отправил ни одно из них – ведь не было никакого Бостона, не было никакого адреса, который бы я указал на конверте. Но теперь я знаю, как доставить их тебе. Уже вечереет, и вскоре вот-вот вспыхнет маяк. Мёртвый маяк, горящий кораблю, которому давно пора самому стать мёртвым. Я знаю – теперь точно знаю – этот маяк зажигала мне ты. Теперь самое время продолжить свой путь. Я подпалил этот проклятый дом, ставший символом твоей гибели. Сейчас пламя разгорится – и новоявленный маяк вспыхнет на этом берегу; маяк этого мира, от которого я продолжу путь к иному – на свет иного. Предыдущие письма уже корчатся в огне, они послужат началом большого пламени. Я стою в нескольких футах от края обрыва. Чёрная клокочущая бездна – истинная суть океана там, внизу. Северный ветер сушит мои глаза и открытый рот, которым я кричу – как те птицы, что постоянно роились над волнами в дневное время. Солёные брызги летят в лицо, смешиваясь с мокрым снегом – но не со слезами, они иссякли, ещё час назад. Я вижу воздвигшийся из тьмы хрупкий мост, и теперь понимаю – это не стекло или хрусталь, это чистейший звёздный свет, иллюзорный и зыбкий – но вполне реальный и крепкий для тех, кто готов отправиться в путь. Там, вдали, воздвигается чёрная башня, увенчанная маяком, зажжённым тобой. Теперь я вижу её – наяву не во сне, и больше не боюсь и не сомневаюсь. Всё именно так, как и должно быть. Чёрный всё так же стоит позади башни, обнимая её своими клешнями, щупальцами, ещё какими-то конечностями. Сотни глаз горят по его амёбообразному телу – и он больше не хохочет, он призывно манит меня одной из своих колеблющихся конечностей. Там, на той стороне моста, ждёшь меня ты. Во сне я не мог последовать за тобой – ибо не был готов. Но теперь – время пришло. Я допишу это письмо и брошу его в уже занявшееся пламя, постепенно охватывающее дом. Мистики верят, что, написав на бумаге послание, можно передать его напрямую обитателям тонкого мира, если сжечь в пламени свечи и развеять после пепел по ветру. Но пламя этого дома лучше всякой свечи, а ветра здесь достаточно. Ты получишь мою весточку – и будешь знать, что я уже скоро… Оливет. Оли. Звёздочка моя, тонкая веточка в руке моей. Сон мой последний – и единственный. Сегодня я убью человека. Я вижу его почти каждый день, и сейчас он немыслимым образом глядит на меня с поверхности чёрного свирепого океана. Я убью его – иначе, мы никогда не сможем встретиться. Ни здесь, ни там. Пламя за моей спиной всё ярче, но пламя впереди – ещё ярче. Я уже иду. Встречай. |
|
|
|
 28.3.2017, 18:41 28.3.2017, 18:41
Сообщение
#2
|
|
 Гениальный извозчик      Группа: Пользователи Сообщений: 23158 Регистрация: 6.10.2013 Вставить ник Цитата Из: МБГ |
Ну, ничего так... Для любителей викторианской прозы.
|
|
|
|
 30.3.2017, 21:56 30.3.2017, 21:56
Сообщение
#3
|
|
|
Неизвестный пришелец  Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.3.2017 Вставить ник Цитата |
Благодарю за отзыв! Можете поподробнее про сравнение с викторианской прозой? Не очень понял...
|
|
|
|
 30.3.2017, 22:39 30.3.2017, 22:39
Сообщение
#4
|
|
 Гениальный извозчик      Группа: Пользователи Сообщений: 23158 Регистрация: 6.10.2013 Вставить ник Цитата Из: МБГ |
Ну, английская проза второй половины девятнадцатого века. У Вас правда начало двадцатого, но всё равно, довольно архаично и многословно, характерно для того периода, на любителя.
|
|
|
|
 31.3.2017, 10:54 31.3.2017, 10:54
Сообщение
#5
|
|
 Житель      Группа: Пользователи Сообщений: 9369 Регистрация: 18.11.2014 Вставить ник Цитата |
Новая Англия куда лучше Старой, и уж тем более лучше этой опостылевшей земли, на которой я вынужден находится. Глазго, старый добрый чёртов Глазго! Запнулся на старте, извините. Одолели сомнения: Глазго ведь в Шотландии? При чём тогда "Старая Англия"? Разве англичанину или шотландцу сие будет безразлично? |
|
|
|
 31.3.2017, 12:54 31.3.2017, 12:54
Сообщение
#6
|
|
 Гениальный извозчик      Группа: Пользователи Сообщений: 23158 Регистрация: 6.10.2013 Вставить ник Цитата Из: МБГ |
Я так поняла, что Новая Англия лучше Старой Англии, и уж "тем более" лучше Шотландии, где он находится.
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

|
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2024, 9:14 |